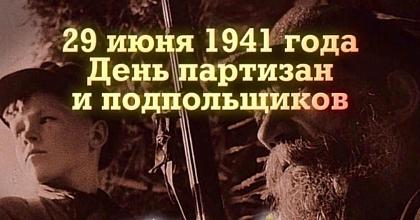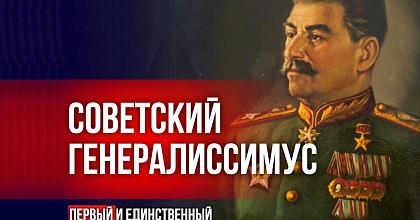ВЫБОРЫ ПАРТИЙНЫХ КАНДИДАТОВ И ДЕМОНСТРАЦИИ
После двух мировых войн и последовавших за ними государственных и политических перестроек, включая революции, были моменты когда казалось, что почти весь мир наконец приобрел современный демократический статус, базирующийся главным образом на всеобщих выборах партийных кандидатов. Такие выборы стали той неизбежной панацеей для демократической (или хотя бы псевдемократической) легитимности, которая считается в наши дни абсолютно необходимой.
Однако, в последнее время всё чаще и чаще эти выборы практически сводятся на нет, или просто объявляются недействительными или даже автоматически аннулированными, Особенную роль в таких отвергающих результаты выборов процессах играют уличные демонстрации. Даже уже выбранные правительства подвергаются давлениям таких уличных демонстраций, при чём не только для публичного выражения критики, но и для удаления этих выбранных правительств, на этот раз без выборов.
Так, основатель Пятой французской республики генерал Де Голь был вынужден после больших уличных манифестаций в 1968 году созвать внеочередной плебисцит, для его дополнительной, кроме уже состоявшихся выборов, апробации, законом не востребованной. В результате, Де Голль подал в 1969 году в отставку, раньше конституционного строка. Эти массовые уличные демонстрации 1968 года во Франции можно считать историческими и во многих отношениях примерными и типичными, как по многим своим характеристикам, так и по своим результатам.
Некоторые аналитики даже предполагают, что они были примером и образцом для многих последующих аналогичных происшествий. Даже намекается на заинтересованность некоторых спецслужб, по заказу «глубинных государств», в подготовке, организации и поддержке таких демонстраций. Это были демонстрации фактически против самостоятельной внешней и экономическо-финансовой политики Де-Голля, который, как известно, вывел Францию из военных структур НАТО, перестал употреблять доллар в международных финансовых сделках Франции, и и не стал занимать русофобских позиций. Кроме того, он стал покупать золото у США по официальной цене тогда в 35 долларов за унцию.
Все эти принципиальные позиции правительства Де Голля были категорически отменены после его ухода, в результате этих уличных демонстраций и вызванной ими отставки Де Голля, хотя ему на смену пришли правительства его же партии, снова выбранной.
Получается, что выборы партийных кандидатов в государственные органы являются краткосрочным методом современных демократий, в то время как демонстрации являются корректирующими эти выборы методами дальнего прицела. В обоих случаях, политическое разногласие, возведенное в принцип, является облегчающей предпосылкой.
Все конституционные требования современных форм всеобщих голосований основываются на декларативных ссылках на две древние государственные формы, без никакого их определения. Это ссылки на демократию и республику. Например, современный Основной Закон (конституция) Германии, в параграфе № 20 определяет, что «Союзная республика Германия является демократическим и социальным и союзным государством.» (Art 20. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.) Однако, это мистификация, которую легко установить в случае этих обоих терминов.
ПЕРВАЯ ДЕМОКРАТИЯ БЫЛА ПРОТИВ ВЫБОРОВ
Первая в истории человечества демократия возникла в Афинах, в Древней Греции. Она была принципиально против всеобщих выборов, считая таковые «аристократическим, а не демократическим, методом».
Согласно конституционной реформе архонта Клисфенв от 508 года до Р.Х. всё население Афинского Полиса было подразделено на сто частей (демосов), каждый из которых ежегодно выдвигал путём жребия одного кандидата в архонты, из числа всех граждан данного демоса. Никто не мог быть выбранным во второй раз, пока не были выдвинуты кандидатами все граждане данного демоса. Затем, все так выбранные жребием кандидаты выдвигали из свой среды, тоже путем жребия, девять архонтов (начальников), для управления Полисом. После годичного срока, архонты становились кандидатами в члены Аеропага (Совета старейшин), по его кооптации.
Выборами назначались лишь члены военной коллегии десяти стратегов и члены финансовой коллегии. Стратеги была военными начальниками новых, созданных Клисфеном, десяти афинских фил (филами в Афинах раньше называли четыре учредительных племени). Демосы теоретически приравнивались в военном отношении к сотням. Десять демосов образовывали одно из десяти новых племён (фил), одновременно являвшимся одной из десяти «тысяч» (полков). Во главе демосов стояли димархи, а во главе фил или тысяч - стратеги.
Высшим органом Афин было Народное собрание всех афинских граждан, созывавшееся по необходимости. В перерывах между его собраниями действовал исполнительный орган — Совет пятисот. В него избирались граждане старше 30 лет по жребию, от каждой филы по пятьдесят человек
Все кандидаты на государственные должности в Афинской демократии, отбираемые путём метания жребия, должны были предварительно публично подтвердить свою приверженность религиозным верованиям и нравственным убеждениям афинского народа, помимо подтверждения принадлежности к нему, принадлежности личной и своих отцов.
В последний период Афинской демократии главную роль в ней играл первый стратег (буквально «воевода»). Таковым был в течение пятнадцати лет стратег Перикл. Значит, возглавителем этой первой в истории демократии мог быть только военный.
В заключение можно отметить, что в такой первоначальной демократии не только не было всеобщих выборов, но также не было и предписанных партийных разногласий. В результате, глубинное государство было невозможно.
ОГРАНИЧЕННАЯ РОЛЬ ВЫБОРОВ В ПЕРВОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Первая в истории мира республика имела монархическое происхождение, ибо
была учреждена первым царём Рима Ромулом. В начале своего существования, Римская Республика возглавлялась в течение двух с половиной веков семью царями (или восьмью, если считать, что во время Ромула было два царя). Цицерон пишет: «Когда в нашей республике были цари».
Само слово «республика» значит «общее дело», или «публичное дело», Так что, в самом названии этого государства определялась невозможность непубличных, подпольных структур и политических акций. Больше того, непубличные политические махинации приравнивались к государственному заговору, по закону караемому смертной казнью.
Политические принципы и конституционные структуры Римской Республики быди ясными и простыми, но их функционирование могло казаться сложным. Я лично считаю, что они имеют в принципе некоторое сходство с древним славянским политическим строем, возможно из-за доисторических родственных и соседских отношений между праславянкими и пралатинскими популяциями.
Римский историк и мыслитель, сенатор Цицерон подробно описывает уреждение Римской Республики. Он во-первых определяет и формулирует два основных принципа Римской Республики; Libertas и Concordia, свобода и согласие (буквально «со-сердечие»). Значит, в первоначальной республике не было места для разногласий, ибо основной принцип республики был противоположным разногласию. Для этого, учредитель этой первой республики основал два учреждения: авгуров и Сенат. Испанский философ Ортега-и-Гассет обращает внимание на то, что Цицерон ставит на первое место авгуров, а Сенат на второе.
В 753 году до Р. Х., основание Рима произошло путем объединения, по-видимому, трех племён, каждое из которых состояло из нескольких родов, число каковых потом было символически определено цифрой десять. Каждый род выставлял сотню пеших воинов и десять всадников. Таким образом, десять родов поставляли десять сотен, что и составляло тысячу, по-латыни «miles». (От этого слова и пошли слова «милиция» и т. д.). При объединении трех племён, получились три когорты (полка), по тысяче пехотинцев, и три сотни всадников. Это и была первоначальная форма известного римского легиона. По-видимому, все индоевропейские народы в своих истоках прибегали именно к подобной структуре, по сотням и тысячам, для своей организации, которая в те времена была одновременно гражданской и военной. Таким образом, и казачья, и римская структуры одного происхождения.
Нельзя забывать, что на древней Руси, в обеих ее первоначальных частях, в Новгородской и в Киевской Руси, существовала должность тысяцкого. Это был начальник тысячи, а в отвлеченном смысле слова вообще начальник всего ополчения данного города. (При этом необходимо отметить, что слова «полк» и «полис» одного индоевропейского корня). Сотни, возглавляемые сотниками, существуют у казаков и до сего дня. Между прочим, именно один римский сотник был первым язычником, про которого Христос сказал: «Истинно говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры» (Матф. 8, 10.).
Особенно чётко эта структура выкристаллизовалась в древнем Новгороде, где князь был верховным судьей-арбитром и верховным военачальником всего войска (своей собственной, княжеской дружины и народного ополчения), ежегодно выбираемый посадник был административным начальником города, а, тоже ежегодно выбираемый, тысяцкий - воеводой городского ополчения. После годовой службы все «старые» посадники и тысяцкие автоматически входили в состав Господского Совета, под председательством князя.
Если проводить дальше параллель с Римом, то можно отметить много аналогий его конституционной структуры со строем в Древней Руси и, особенно, в Новгороде.
В Риме титул князя был «рекс», он же и был предводителем «тысячи» (а затем и всего легиона, то есть «трёх тысяч»). Через два с половиной века, «рекса», по-видимому, сперва заменил «претор», что в переводе буквально значит «пред-идущий», а начальник всей конницы, то есть трёх сотен всадников, с титулом префекта конницы (prefectus equites), был его заместителем, как и раньше при «рексе». (Вскоре титул «претора» был сменён на «консула», причём стали выбирать двух консулов, как верховных вождей, как в Спарте, и десять преторов, как верховных судей.) В истоках Рима, каждый род назначал одного из своих старейшин пожизненным членом Сената, то есть Совета старейшин, но потом, в процессе конституционных реформ, Сенат в Риме тоже пополнялся, как и в Новгороде, старыми, сиречь бывшими городскими магистратами, самой низшей степени, отслужившими свой первый годовой срок. Кандидатами на все высшие должности могли быть только лишь члены Сената, то есть государственные деятели, уже исполнявшие низшие государственные должности.
Современные представительные учреждения, за редкими исключениями, не допускают такой аккумуляции и осаждения в их рамках наилучших политических кадров страны, что несомненно противоречит самой идее выборов, если исходить из этимологического анализа этого выражения.
Совместное сотрудничество избирателей и отбираемых избранных членов «отбора» или «рады» дает в результате «соборные» решения. На сербско-хорватском языке слово «сабор» исторически употреблялось беспрерывно, вплоть до наших дней, а правление называется словом «одбор» Такой же смысл исконне был присущ и соответствующим латинским понятиям. Например, испанское слово «элексион» (выборы) несомненно связано со словом «сэлексион» (отбор).
Римская республика была смесью монархических, аристократических и демократических начал и элементов, с перевесом аристократических, после замены одного царя двумя консулами в 510 году. Даже можно вывести заключение, что в Римской Республике подспудно существовало убеждение, что демократию можно частично сохранить и одновременно обеспечить хорошее правление, даже с участием демократии, но только лишь с помощью аристократии. Посему, в Римской Республике назначения магистратов никогда не происходили путём демократического метода метания жребия, а путём ступенчатого отбора лучших, через выборы.
Ни одной высшей должности нельзя было достигнуть, не пройдя через все предыдущие низшие должности, как гражданские, так и военные, вперемежку. Это называлось «курсом чести», cursus honorum. Выборы являлись лишь рекомендацией для назначения выбранных кандидатов, назначения совершаемого сперва Сенатом, затем одобряемого авгурами, и наконец подтверждаемого «возложенем рук» (хиротонией) оканчивающими свой мандат сановниками, ибо легитимность власти приобреталась через назначение, а не через выборы. (Цицерон по этому поводу говорит: Мы даём авторитет только наилучшим, дабы сохранить свободу для всех). Аристотель особенно подчеркивает, что подлинная демократия требует именно метания жребия, для назначения своих сановников из числа всех граждан, без разбора, в то время как выборы являются методом аристократического или олигархического отбора.
Одной из самых важных функций Римского государства как раз и был такой ступенчатый отбор своих собственных правителей. Еще в начале четвёртого века после Р.Х. Римская Империя (простиравшаяся тогда от Англии до Сирии) управлялась двумя сословиями таких отобранных служак: сенаторского сословия, состоявшего приблизительно из тысячи человек, и сословия всадников, состоявшего из приблизительно двадцати тысяч человек. Причем, к этому времени, в среде этих двух сословий оставалось очень мало потомков первоначальных основателей Рима, то есть подлинных патрициев. В большинстве случаев это были «выдвиженцы» из простого народа, вернее из всех народов, составлявших Римскую Империю. (Суть империй заключается в их управлении с помощью периферийных элит). С середины третьего века особенную роль среди них играют уроженцы из современной Югославии, как, например, император Диоклециян, из Далмации, и святой император Константин Великий, родившийся в городе Нише, в сегодняшней Сербии. Они были имперской аристократией, а не партийной номенклатурой, и должны были служить не только в согласии с государственными бюрократическими нормами работы, но также и в согласии с общественными и сословными нормами чести, служения и поведения.
Предпоследний римский царь Сервий Тулий, чье этрусское имя было Мастарна (579 - 635 до Р. Х.), поделил всех граждан Римской Республики (патрициев и плебеев) на пять разрядов, по имущественному признаку. Имущество первого разряда было более ста тысяч ассов (приблизительно - стоимость десяти лошадей), второго разряда -семидесяти пяти тысяч ассов, третьего разряда - пятидесяти тысяч, четвёртого разряда -двадцати пяти тысяч ассов и пятого разряда - одиннадцати тысяч ассов. Значит, первый разряд был в четыре раза богаче четвёртого и в девять раз богаче пятого. Вне этих пяти разрядов состояли неимущие, вернее - имущие только лишь детей, «пролэс» («пролетарии»), а посему освобожденные от «военных и мирных повинностей».
В Древнем Риме было общепризнано, что именно царь Сервий Тулий окончательно оформил конституцию Римской Республики, основанную её первым царём Ромулом в 753 году до Р. Х. Известный римский историк Тит Ливий пишет: «Сервий Тулий учредил ценз - самое благодетельное для будущей великой державы установление, посредством которого повинности, военные и мирные, распределяются не подушно, как до того, но соответственно имущественному положению каждого. Именно тогда он учредил разряды и центурии, и весь основанный на цензе порядок».
Когда в 510 году в Римской Республике пожизненная монархия была заменена годовым предводительством двух верховных преторов (согласно сохранившимся надписям, их титул первоначально гласил «praetor maximus», буквально «верховный предводитель»), затем называемых консулами («вместе выступающими»), то было специфически оговорено, что их выборы будут проводиться согласно прежней системе выборов по цензовым центуриям, установленной царём Сервием Тулием.
СОБОРНЫЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ МОНАРХИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Также был полностью сохранён и прежний соборный монархический конституционный порядок, установленный еще Ромулом, первым царём Рима. А именно, что во главе государства, наряду с царём (а затем, и наряду с консулами), всегда должны стоять два «наивысших учреждения»: коллегия пожизненных авгуров и Сенат, состоящий из пожизненных сенаторов.
Особенно чётко эта структура выкристаллизовалась в древнем Новгороде, где князь был верховным судьей-арбитром и верховным военачальником всего войска (своей собственной, княжеской дружины и народного ополчения), ежегодно выбираемый посадник был административным начальником города, а, тоже ежегодно выбираемый, тысяцкий - воеводой городского ополчения. После годовой службы все «старые» посадники и тысяцкие автоматически входили в состав Господского Совета, под председательством князя.
Если проводить дальше параллель с Римом, то можно отметить много аналогий его конституционной структуры со строем в Древней Руси и, особенно, в Новгороде.
Современные представительные учреждения, за редкими исключениями, не допускают такой аккумуляции и осаждения в их рамках наилучших политических кадров страны, что несомненно противоречит самой идее выборов, если исходить из этимологического анализа этого выражения.
Например, в славянских языках понятие выборов неразрывно связано с понятием отбора. На сербско-хорватском языке «одбор» - это и есть правление. (Казачье управление, «одбор», обозначается словом «рада», родственным глаголу «радеть». Рада радеет о «приумножении» общего блага. От латинского корня глагола «приумножать», augere, и происходит слово «авторитет, auctoritas. Авторитетом обладает лишь тот, кто умеет «приумножать», а не «убавлять»).
Исходя из такого исторического анализа, можно сказать, что суть казачьего строя заключается в том, что он лучше всех и полнее всех сохранил исконные индоевропейские, а затем и чисто славянские организационные структуры. Эти структуры мы можем сегодня обозначить словами «казачья демократия», не входя в анализ изначального значения самого слова «демократия».
Выражение «авторитарный», сиречь «обладающий общепризнанным авторитетом», сегодня зачастую подвергается невежественным толкованиям, для идеологического околпачивания. Известный философ прошлого века, Карл Ясперс, определяет «авторитет», как «силу, обеспечивающую свободу», ибо подлинная «свобода существует только вместе с авторитетом... Авторитет и свобода могут спастись в нашу эпоху только при условии допущения веры». (Karl Jaspers. Libertad y autoridad. Журнал ЮНЕСКО «Diogenes», № 1, Buenos Aires, 1952.)
В этом Ясперс следует за Цицероном, утверждавшим, что, для обеспечения общей свободы для всех, нужно облечь авторитетом наилучших. Для того, чтобы «свобода существовала на деле, а не на словах, она должна быть доверена славнейшим учреждениям, чтобы уступать авторитету первейших». (Законы, 3.)
Известно, что латинские племена выбирали себе своих «атаманов», которых они называли иногда «вождями народа», а иногда «диктаторами». (Диктатор, буквально «повелевающий», «говорящий», «единственный, кто имеет право говорить во время бедствия». Той же этимологии, что и «диктор»). Однако, эта должность диктатора, строго ограниченная во времени, но не ограниченная в полномочиях, хорошо подходила для исполнения чисто военных задач (или для преодоления катастрофических ситуаций), но не совсем подходила для постоянного судебного арбитража. Немецкий ученый фон Игеринг выдвинул предположение, что именно необходимость создания такого постоянного надвременного судебного арбитража и привела к учреждению должности князя (царя), или «рекса», в Риме в 753 году до Р.Х. Такое предположение подтверждается и формулой призвания Ррика: «Да правит по праву».
В согласии с очень консервативным характером римлян, они восстановили должность диктатора в консульский период (с 510 года). Однако, характерным отличием этой должности всегда была её строгая ограниченность во времени. Например, в Риме, в до-имперский период, должность диктатора была самая ограниченная во времени из всех, ибо она никак не могла длиться более шести месяцев, в то время как все остальные магистратуры, кроме цензоров, были сроком в один год. Лишь двух цензоров избирали на пять лет, из числа бывших верховных преторов, затем называвшихся «консулами».
Чтобы закончить эти исторические сравнения, в заключение можно отдельно отметить еще одну интересную деталь. А именно, что само основание Рима имело во многих отношениях ярко выраженный «казачий» характер.
М. Фасмер определяет в своем «Этимологическом словаре русского языка» слово «казак» как «свободный, независимый человек, искатель приключений». Известный римский историк Тит Ливий, в своей «Истории от основания Рима», пишет, что основатели Рима, Ромул и Рем, «разделяли труды и потехи с пастухами», с которыми они создали «отряд юношей». Затем «от соседних народов сбежались все жаждущие перемен - свободные и рабы без разбора - и тем была заложена первая основа великой мощи».
Таким образом, в своих истоках Рим был поселением воинственных юношей,
искавших свободы и приключений, но в их городе еще даже не было женщин. Лишь затем «Ромул разослал по окрестным племенам послов - просить для нового народа союза и соглашения о браках». После отказа, римляне были вынуждены похитить девиц у своих родственных соседов сабинян: «По данному знаку римские юноши бросились похищать девиц. Большею частью хватали без разбора, какая кому попадется». После состоявшейся войны с сабинянами, наконец с ними был «заключен договор, и из двух государств составили одно». Причём, это было достигнуто при посредничестве самих похищенных сабинянок, окончательно примиривших своих новых мужей со своими отцами. (Тит Ливий, там же).
Однако, с этого момента для римлянок было введено тройное требование: женщина должна быть «целомудренной, плодовитой и шерстопрядильной» (casta, prolifica, lanifica). В свою очередь, женщины от мужчин требовали порядка, порядочности и основательности. Испанский философ Хосэ Ортега-и-Гассет обращает внимание на то, что римские термины, связанные с порядком и построением, взяты из женского прядильного (то есть «по рядам») лексикона, как, например, само слово «порядок», ordо, от глагола ordior, «навивать основу», «начинать ткать, вязать, плести», или просто «начинать». (Jose Ortega y Gasset. Una interepretacion de la historia universal. Madrid, 1960. Стр. 141.)
Сегодня ни одно из современных государств, прокламирующихся «республикой» имеют мало чего общего с этой выше описанной первоначальной республикой,
ИСТОЧНИКИ ДВОЙНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ МИСТИФИКАЦИИ
Неизбежно возникает вопрос: почему почти все современные конституции неизбежно ссылаются на демократию и на республику, и при этом не уточняют их содержания, как первоначального, так и современного, сильно изменённого?
Во-первых, большинство соввременных конституций в значительной мере списываются одна с другой, повторяя при этом одни и те же формулы и обороты. Содержание современных конституций возникло после французской революции, одном из главных идеологических мотивов каковой был её антимонархизм. В пылу этого антимонархизма, был пущен в оборот ложный лозунг, что противоположностью монархии является республика.
Кроме того были неправильно переведены с греческого некоторые политические термины из классификации политических режимов Аристотеля. С этих неправильных переводов на французский язык было сделано немало вторичных переводов, с теми же искажениями. Известный испанский философ и сенатор Юлиан Марияс пишет по этому поводу, в двухязычном издании Аристотеля в Испании, что эти неправильные переводы говорят нам о чем пишет Аристотель, но не переводят того, что он пишет.
Кроме того, были созданы и пущены в оборот идеологические системы искажающие многие отвлеченные политические и юридические теории и гипотезы, связанные так или иначе с понятиями демократии и республики. Особенную роль в этом сыграла идея разделения власти.
ИДЕЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ
Окончательную форму идее «демократического» разделения власти» придал известный французский политический мыслитель барон Монтескье (Вагоп de Montesquieu, 1689 - 1755). Доктрина Монтескье дает теоретическое обоснование не только для окончательного подрыва «старого режима», с его порядком, дисциплиной и иерархией, но и для ослабления и раздробления всякой политической власти в будущем, перед лицом новой, не раздробляемой и единой, монолитной и монопольной капиталистической финансовой власти. В этом и заключается квинтэссенция либерализма: экономическая мощь при политической немощи. Монтескье ясно формулирует две главные идеи всей своей системы политического либерализма: 1) Существуют три вида власти. 2) Народ, как таковой, сам по себе не в состоянии «обладать» ни одним из этих трех видов власти.
«В каждом государстве существуют три типа власти: законодательная власть, исполнительная власть и судебная власть». (О духе законов, 11-я кн., 6-я гл.). Но, в свою очередь, законодательная власть должна быть разделена на две части, из которых одна, аристократическая, должна быть «властью умеряющей», то есть сдерживающей. В свою очередь, «высшая исполнительная власть должна находиться в руках монарха... так как она лучше исполняется одним, чем многими...». (Там же). Монтескье рекомендует, чтобы «из трех упомянутых властей, та, которая судит, была почти равна нулю». Для этого, «судебная власть не должна быть дана постоянному сенату, но должна осуществляться лицами, вышедшими из народной массы, временно и попеременно назначаемыми в согласии с законом, образуя трибунал, действующий короткое время». Это позволяет Монтескье приступить к начертанию его первого проекта: «Остаются две власти: законодательная и исполнительная. Эти три власти (так как имеются две власти в законодательной) нейтрализуются между собой. Но, будучи побуждаемы необходимым движением вещей, они окажутся принужденными действовать в согласии». Из этого предложения родилась, потом, так называемая система «тормозов и противовесов» во многих конституциях, особенно на американском материке. Расщепляя, таким образом, государственную власть на несколько частей, и ставя эти части в равновесие между собой (наподобие шлагбаума или лифта и их противовесов), вся политическая власть приводится в такое состояние, что ею могут довольно легко и скрытно манипулировать не публичные факторы.
Второй проект Монтескье позволил легитимировать узурпацию народной власти, как в либеральных, так и в социалистических государствах. Этот проект возрождает старую римскую идею делегации власти. Монтескье утверждает, что «народ не обладает способностью разбирать дела», и «поэтому необходимо, чтобы народ делал посредством своих представителей то, что он не может делать сам». (Эта идея лежит в основе той части конституции США, в которой предписывается процедура выборов президента США, но не прямо, а с помощью делегатов). Вообще, «законодательная власть народа в массе невозможна в больших государствах, и имеет много неудобств в малых». Исходя из этой предпосылки, затем развились либеральные и социалистические представительные системы, и даже такие политические структуры, как «советы рабочих и солдатских депутатов».
Центральная идея политического либерализма, подробно разработанная Монтескье в труде «О духе законов», вращается вокруг попытки создания такого государственного строя, в котором можно было бы обезвредить и ослабить государственную власть, путем её разделения на части, по функциям, с помощью специально для этого написанных конституций и законов. Сам народ не должен принимать прямого и полного участия ни в одной из четырех властей, но все эти четыре власти будут действовать его именем.
Новые американские государства, отрезанные от своих исторических корней в Европе, оказались особенно благодатной почвой для проведения в жизнь этого грандиозного эксперимента, для осуществления на практике таких отвлеченных политических теорий. Ввиду специфических особенностей Нового Мира, при преломлении на практике либеральных идей Монтескье, в их, специально для этого написанных конституциях, оказалось, что на лицо не было ни монархии, ни аристократии (как в Англии), необходимых, согласно Монтескье, для осуществления его либеральной теории. Это привело к гипертрофии законодательной власти. Так было потеряно с самого начала то пресловутое равновесие между разными политическими началами, которыми так дорожил Монтескье, и которое должно было, по его замыслу, являться залогом благополучного осуществления политического либерализма.
Кроме того, практика комплектования законодательных органов в либеральных государствах тоже не совпадает с оригинальной либеральной теорией. Монтескье утверждает, что «народ не способен; это и является как раз одним из наибольших недостатков демократии». Поэтому, необходимо, чтобы «народ делал посредством своих представителей то, что он не может делать сам». Однако, эти представители не должны быть «взяты из общей массы (тела) нации; будет уместно, чтобы каждое место имело своего представителя, избранного местными жителями». («О духе законов». 2-ая книга, 6-ая глава). Однако, либеральная практика придерживается лишь той части либеральной теории, которая считает неуместным прямое правление народа, но она, в большинстве случаев, отходит от той части либеральной теории, которая требует, чтобы это представительство было основано на земском, территориальном принципе. Вместо земского принципа, либеральная практика предпочитает придерживаться партийного начала, при котором номинальные представители народа на самом деле являются реальными представителями партий и за ними стоящих глубинных инстанций.
Дальнейший разбор отхождений практического либерализма от первоначальной либеральной теории Монтескье не может упустить из виду проблемы, связанные с судебной властью. Монтескье утверждает, что «судебная власть не должна быть дана постоянному сенату, но должна осуществляться лицами, вышедшими из народной массы, временно и попеременно назначаемыми в согласии с законом, образуя трибунал, действующий краткое время». Несмотря на очевидные усилия подогнать как-то либеральную практику к этой первоначальной либеральной теории (например, путем учреждения судов присяжных поверенных, или даже выборов судей на низшие уровни), все же либеральные конституции учреждают постоянный профессиональный суд, никак не подводимый под категорию «как бы невидимой и аннулированной судебной власти», как этого требует Монтескье. Конституция США, например, учреждает Верховный Суд, состоящий из пожизненно назначаемых профессиональных судей. Известный монархический и даже самодержавный характер высшего суда США явствует не только из способа назначения его членов и из пожизненного характера этого назначения, не только из авторитарного права этого Суда «аннулировать все законы противоречащие конституции», но еще больше из его реальной власти беспрекословно толковать по своему усмотрению самый смысл этой конституции: «Конституция США является тем, чем она должна быть, согласно толкованию Верховного Суда». (С. Негтап Pritchet. The American Constitution).
ГЛОБАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ
Распространившиеся тогда же по всему миру полу-подпольные идеологические кружки тоже взяли на свое вооружение ряд таких искаженных теорий и терминов. Ведущая аргентинская газета «Ля Насион», либерального толка, взяла в субботу 17 октября большое интервью у «великого мастера» «Аргентинского Востока», который рассказал историю аргентинского масонства. Он утверждает, что члены «Первой Хунты» (собрания) провозгласившей 25 мая 1810 года независимость Аргентины все принадлежали к этой организации, в том числе даже и один римско-католические священники, за одним единственным исключением. Он утверждает, что все они тогда стремились к «республике и к демократии». Аналогичное положение происходило и во всех остальных испанских колониях в Латинской Америке. Дело в том, что все молодые военные Испанской Америки тогда учились в военных училищах Испании, где многих из них тайно посвящали в тогдашних «младотурков».
В России, декабристы в 1825 году стремились к тому же. Только они добавляли еще два лозунга: конституцию и федерацию. Известный социадемократический лидер и журналист Б.Николаевский, в одной своей статье в журнале «Грани», еще до падения коммунизма, писал, что он собрал свидетельские показания членов Государственной Думы принимавших участие в февральском перевороте, как они еженедельно обирались на частных квартирах, чтобы распределять между собой роли их выступлений в Думе, с целью установления в России республики.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
Говорят, что любая ложь, нуждается в «фиговом листочке» Правды. Ложь в чистом, стопроцентном виде невозможно подавать. Так и в данном случае, несмотря на все современные искажения, понятие республики, особенно в латинских странах, сохраняет также и некоторые свои оригинальные, положительные аспекты. Автор этой статьи слышал несколько лет тому назад одного представителя организации аргентинских судей, Он прямо и ясно сказал, что республику нельзя ликвидировать голосами большинства представителей избирателей. В Республике есть институции и их магистраты (сановники), которые не зависят ни от избирателей ни от их представителей, а только от Закона.
В этом принципе спасение, как для демократии, так и для республики. Однако, Закон не должен быть современного типа, когда часто фабрикуются законы в инфляционном ритме, по воле очередного случайного (или подогнанного) большинства, а Соборные Законы, выражающие одновременно гармонический аккорд воли большинства и воли меньшинства, и не только современных поколений, но и в симфонии с завещанной волей предыдущих исторических поколений. Аристотель это определяет категорически:
«Одной из форм демократии является такая демократия, в которой все граждане участвуют в правлении, но верховная власть принадлежит закону. В другой форме демократии верховной властью является сама толпа (плефос), а не закон. Это происходит там, где главенство принадлежит декретам, а не закону. Это происходит по вине демагогов... Где закон не обладает авторитетом, там нет политии (республики). Закон должен стоять выше всего, а сама полития и её сановники должны решать только лишь частные случаи. Если демократия является одной из форм правления, и если она будет организацией, в которой всё решается путём декретов, она не будет настоящей демократией, ибо ни один декрет не является соборным («кафолу», т. е., «кафолическим», всеобщим, универсальным)»ю (Аристотель, Политика, 1292 а).
И.Н.Андрушкевич
Русские тетради. Историко-политические анализы и комментарии.
№ 58. Буэнос-Айрес, октябрь 2020 г. XIV год издания. Издается на правах рукописи. Учредитель, издатель и редактор: И. Н. Андрушкевич. Корректор: О. Н. Жерехова. При использовании и перепечатке материалов ссылка на источник обязательна. Почтовый адрес: I Andruskiewitsch. Calle Entre Rios 2628. 1653, Villa Ballester. Argentina. Эл. адрес: kadetpismo@hotmail.com Блог: http: //i-n-andruskiewitsch.blogspot.com.ar